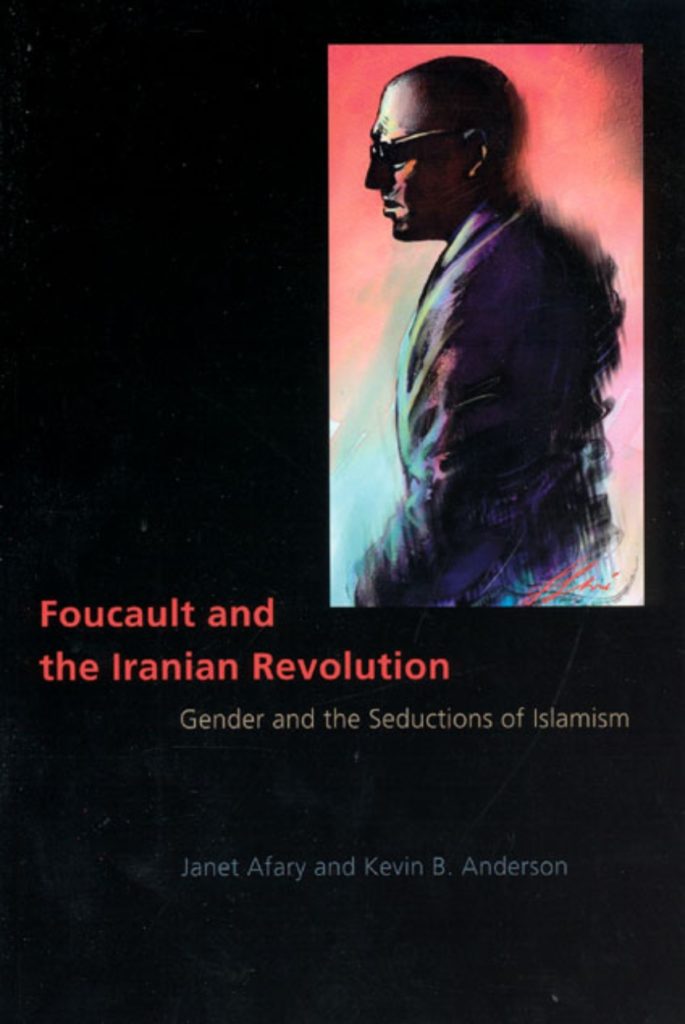Переводчик: Кирилл Банькин
Перевод фрагментов 5 главы книги «Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism», авторы — Janet Afary и Kevin B. Anderson.
Было много спекуляций по поводу внезапного интереса Фуко к греко-римскому миру, которому были посвящены два последних тома «Истории сексуальности» с подзаголовками «Использование удовольствия» и «Забота о себе», опубликованные в 1984 году. Эрибон считает, что в жизни Фуко был «личный кризис и интеллектуальный кризис» в годы после публикации в 1976 году первого тома «Истории сексуальности», который получил смешанные отзывы, и негативного восприятия его работ об Иране (Eribon 1991, 277). Другие критиковали Фуко за то, что он обратился к периоду и региону, не входящим в сферу его компетенции, вместо того, чтобы продолжать свою новаторскую критику современности. Но так ли это было на самом деле? Дэвид Гальперин утверждает, что Фуко все еще обращается к нашим сегодняшним проблемам сексуальности, хотя предметом изучения является древний средиземноморский мир. Фуко вернулся к грекам, потому что его волновало «здесь и сейчас» и для того, чтобы «открыть новый способ видеть себя и, возможно, создать новые способы обитания в нашей коже» (Halperin 1990, 70). Марк Постер писал, что Фуко «подорвал сомнительную легитимность настоящего, предложив воссоздание иного прошлого». Постер утверждал, что это воссоздание прошлого не было ностальгическим и что «разрыв между прошлым и настоящим создает пространство для критики» (Poster 1986, 209). Мы предполагаем, что современные проблемы лежат в основе поздних трудов Фуко иным образом. Как мы утверждали в главе 1, восток у Фуко не был географическим понятием; скорее, он включал греко-римский мир, а также современный Ближний Восток и Северную Африку. С учетом этого последние два тома «Истории сексуальности» неожиданно становятся более актуальными для сегодняшнего дня.
В частности, в связи с его работами об Иране, есть некоторые свидетельства того, что, исследуя мужскую гомосексуальность в Древней Греции и Риме, Фуко, возможно, искал параллели с современными сексуальными практиками на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Действительно, если прочитать последние два тома «Истории сексуальности» вместе с некоторыми недавними исследованиями мужской гомосексуальности в мусульманском мире, то можно обнаружить сходную картину социальных отношений и обычаев. По этой причине поздние работы Фуко о гендере и сексуальности в древнем греко-римском мире заслуживают большего внимания со стороны читателей, озабоченных последствиями его мысли для современных ближневосточных и средиземноморских обществ.
Эта глава начинается с анализа разрозненных высказываний Фуко о гендере и мужской гомосексуальности в мусульманском мире, предполагая, что он видел преемственность между древнегреческой гомосексуальностью и мужскими гомосексуальными реляциями в современных обществах Северной Африки и Ближнего Востока. Далее мы исследуем работы Фуко о сексуальности в последних двух томах «Истории сексуальности» и предположим, что ориентализм Фуко распространился и на эту сферу. Вспомнив, что Фуко объединил досовременные западные общества и современные восточные, мы исследуем его идеализированное представление об этике любви в древних средиземноморских обществах, которую практиковала небольшая группа элитных греческих и римских мужчин. В последнем разделе мы возвращаемся к теме мужской гомосексуальности на мусульманском Ближнем Востоке и предполагаем, что вопросы гендера и сексуальности занимали неочевидное, но, несомненно, важнейшее место в революционном дискурсе в Иране.
Наконец, мы зададимся вопросом о значимости этих трудов Фуко, для современного движения геев и лесбиянок в мусульманском мире. До определенного момента Фуко был прав в своем наблюдении, что мусульманские общества вновь проявили некоторую гибкость в отношении однополых отношений. Но такая ограниченная форма принятия, которая включает в себя полную закрытость, — это не то же самое, что признание, которого добивается современное движение за права геев и лесбиянок. Действительно, хотя некоторые аспекты мысли Фуко могут быть весьма полезны для изучения Ближнего Востока, его позиция в отношении сексуальности и гендерных прав вступает в противоречие с чаяниями как феминистского движения, так и движения за права геев и лесбиянок в регионе. По сей день юридические права гомосексуалистов в мусульманских обществах Ближнего Востока отсутствуют, в этих обществах нет ни центров, ни законов, направленных на защиту прав тех, кто вступает в открытые, добровольные однополые отношения.
Воображая туземцев
Эдвард Саид писал, что колонии предлагали колониальной метрополии не только сырье: «Как различные колониальные владения — совершенно помимо их экономической выгоды для метрополии — были полезны как места, куда отправляли непутевых сыновей, сверхкрупные группы преступников, бедняков и прочих неугодных, так и Восток был местом, где можно было искать сексуальный опыт, недоступный в Европе» (1978, 190). Сексуальный туризм оказал влияние и на литературный дискурс многих европейских писателей. К девятнадцатому веку чтение о «восточном сексе» стало частью массовой культуры: «Практически ни один европейский писатель, писавший о Востоке или путешествовавший по нему в период после 1800 года, не избежал этого поиска: Флобер, Нерваль, «Грязный Дик» Бертон и Лейн — это только самые известные”. Что они часто искали — правильно, я думаю — другой тип сексуальности, возможно, более раскрепощенный и менее подверженный чувству вины» (190).
Пребывание Фуко в качестве приглашенного профессора философии в Тунисе с 1966 по 1968 год было не совсем свободным от подобных настроений. Из его опыта в Тунисе вытекают две темы, которые, возможно, предопределили некоторые из его последующих взглядов на иранскую революцию. Первая — это его сильное восхищение теми, кто жертвовал собой ради дела, особенно когда существовал риск смерти или сурового наказания. Фуко с большим уважением относился к тунисским левым студентам, которые в 1967-68 годах столкнулись с жестокими правительственными репрессиями против своих протестных движений. Десятилетие спустя, во время обсуждения марксизма, когда он был на пике своего энтузиазма по поводу иранской революции, Фуко упомянул этот опыт как то, что побудило его стать более по-литически вовлеченным. Он заявил, что был «глубоко поражен и изумлен теми молодыми людьми, которые подвергали себя серьезному риску просто за то, что написали или распространили газету, или за то, что подстрекали других к забастовке» (1991, 134). Он также предположил, что в тунисском студенческом движении есть нечто более глубокое, чем более безрисковая ситуация французских студенческих бунтовщиков в мае 1968 года. Хотя он признал, что тунисские студенты считают себя марксистами, он описал роль того, что он назвал «политической идеологией», как «вторичную» по отношению к более «реальной» приверженности самопожертвованию:
Что же это такое, что может вызвать в человеке желание, способность и возможность абсолютного святотатства без того, чтобы мы могли распознать или заподозрить малейшие амбиции или стремление к власти или процветанию? Вот что я видел в Тунисе. Необходимость борьбы была ясно видна из-за невыносимого характера некоторых условий, порожденных капитализмом., колониализмом и неоколониализмом. (136-37)
Как мы видели ранее, подобное увлечение святынями и смертью проявляется во всех его иранских произведениях.
Вторая тема в его отношении к Тунису так и не стала явной в иранских работах Фуко, но, вероятно, служила фоном для них. Похоже, у него сложилось впечатление, что гомосексуальные мужчины пользуются там большей сексуальной свободой, чем во Франции. Его биограф Дэвид Мэйси отметил, что «геи из Франции давно знали, что Северная Африка — это приятное место для отдыха», и упомянул, что Фуко без колебаний пользовался услугами нескольких молодых арабских мужчин-любовников в те годы в обществе, которое он, очевидно, воспринимал как пронизанное гомоэротизмом (1993, 184-85).
Тунисский социолог Фатхи Трики, который учился вместе с Фуко с 1966 по 1968 год, отмечает, что Фуко был частью французской туристической культуры и разделял схожие предположения об открытости арабской и ближневосточной культуры в отношении гомосексуальности. Как и многие другие французские геи, которые приезжали в Северную Африку на отдых и часто находили сексуальных партнеров как во французских туристических колониях, так и в арабском сообществе, Фуко был в восторге от культуры, которую он наблюдал в Магрибе, и от того, что он считал открытым гомоэротизмом арабского Средиземноморья. Более того, восхищаясь средиземноморским мусульманским миром, Фуко избегал обращаться к сексизму или гомофобии этих культур. Правда, находясь в Тунисе, Фуко часто посещал женский культурный центр Club Culturel Tahar Haddad, кафе, которым руководила феминистская активистка и писательница Джалила Хафсия. Возможно, частые лекции Фуко в кафе Хафсии были, по крайней мере, косвенным выражением поддержки прав женщин, как предположил Трики (личное общение, 3 марта 2002 года). Трики также прокомментировал довольно наивный взгляд Фуко на гомосексуализм в мусульманском мире:
Я считаю, что Фуко был очень субъективным и в то же время очень наивным. Он прекрасно понимал, что его привилегированное положение допускает отклонения. Более того, в обществе, экономика которого основана на туризме (как в Тунисе), сексуальность (гомо- и гетеро-) быта частью пейзажа, и Фуко пользовался этим. Возможно, эта ситуация действительно повлияла на его мнение о гомосексуальности в исламе и в Иране. Французские интеллектуалы очень требовательны к специальным знаниям, за исключением ислама. Можно внезапно стать специалистом по исламу. (Личное общение, 27 марта 2002 г.)
Фуко выразил схожие чувства во время беседы в Париже в 1976 году со своими друзьями Клодом Мориаком и Катрин фон Бюлов. Мориак и Фуко начали с шутки об «атласной красоте» молодой арабской знакомой, которую они видели на парижской демонстрации против высылки пакистанских иммигрантов. Как записано в дневнике Мориака, фон Бюлов в этот момент пожаловалась на сексизм ближневосточных мужчин на марше. Она заявила, что ее «поразил» арабский мужчина, который сказал ей, чтобы она отделила себя от мужчин на демонстрации (Mauriac 1986, 235). Фуко отреагировал весьма бурно. Он перевел вопрос с обращения, которое она получила, на сочувствие к культуре, отмеченной скрытым гомоэротизмом. Его замечания, казалось, ошеломили Мориака, который подробно записал их, возможно, имея в виду более поздний эпизод Фуко в Иране:
Они живут среди мужчин. Как мужчины, они созданы для мужчин, с ослепительной красотой, краткой наградой женщин. Кому-то удалось отрицать, разрушить ту фундаментальную связь, которой долгое время обладала испанская армия: группы из десяти мужчин, которые никогда не покидали друг друга, зависели друг от друга и реагировали друг на друга, вместе сражались и защищались, несли ответственность за семьи тех, кто был убит. Конечно, эти братские ячейки были основаны на тонкой смеси дружбы и чувственности.
И сексуальность (впоследствии так постоянно отрицаемая и отвергаемая) имела там свое место. (235)
Высказанные всего за два года до его визита в Иран в 1978 году, замечания Фуко иллюстрировали то, что с точки зрения Саида можно было бы назвать романтическим востоковедением. Здесь Фуко, возможно, объединил гомоэротизм с гендерно-сегрегированными обычаями в мусульманских обществах и другим чувством культурного табу, как в случае с мужчинами, обычно держащимися за руки или целующимися.
В своих работах, посвященных Ирану, Фуко подобным образом реагировал на критику гендерных ролей в будущем иранском обществе, управляемом исламистами. Как мы видели ранее, во время своих визитов в 1978 году и даже после революции Фуко практически не критиковал доктрину «раздельного, но равного» права женщин, принятую иранскими религиозными авторитетами. Он также обвинил «Атусу X.», иранскую феминистку, которая нападала на его позицию в отношении Ирана, в том, что она питает ориенталистские чувства.
Когда он приехал в Иран в 1978 году, Фуко, казалось, верил, что иранский исламизм также продемонстрирует большее принятие гомосексуальности, чем современный Запад. Два десятилетия спустя социолог Эхсан Нараги, который встречался с Фуко во время одного из своих визитов в Иран, вспоминал их беседу в интервью известному журналисту Ибрагиму Набави:
Ибрагим Набави: Что было с Мишелем Фуко в ранний период революции? Я слышал, что Мишель Фуко неожиданно встал на сторону иранской революции и защищал ее, и что именно по этой причине его подвергли остракизму во Франции.
Эхсан Нараги: Вы знаете, что Мишель Фуко был гомосексуалистом, и этот вопрос оказал важное влияние на его идеологию и мышление. Я знал его ещё со времен нашей учебы в Коллеж де Франс. Мы были друзьями и прошли долгий путь. Примерно за три или четыре месяца до победы революции — не помню, в первый или во второй раз он приехал в Иран — он позвонил мне однажды и сказал, что хотел бы поговорить с революционерами. Я сказал:
«Хорошо, приходите ко мне вечером».
Он согласился, но сказал, что он не один и приведет с собой молодого студента, который был его секретарем. Я понял, что он имел в виду, но не сказал жене, так как она болезненно относится к [гомосексуалистам]. Несколько набожных мусульман пришли, и моя жена [Анхель Арабшайбани] тоже была на встрече. Фуко был очень любопытен и очень чувствителен к вопросу [гомосексуализма], и вдруг он спросил: «Какова будет позиция ислама и этого будущего исламского правительства по отношению к тем, кого мы называем меньшинствами?». Моя жена и другие двое сказали: «В исламе требуется уважение к меньшинствам, и могут существовать несколько религий, таких как иудаизм, христианство и зороастрийцы». Они не поняли смысла вопроса Фуко, хотя я сразу понял, что он имел в виду. Фуко сказал: «Я имею в виду отношение к тем, кого общество называет ненормальными и т.п.». Моя жена поняла о чем он говорил… Она встала и принесла перевод на французский язык одного из стих из Корана, положила его перед Мишелем Фуко и сказал: «Казнь!».
Фуко был ошеломлен. Он был расстроен и ушел в тот же вечер. Это было первое осуждение, которое он получил от ислама, потому что до этого момента он не знал ислама. Он считал, что ислам одобряет гомосексуализм. Из других источников я знаю, что он считал очень важным найти этому подтверждение. Через две-три недели после революции, когда Халхали повесил нескольких гомосексуалистов, моя жена сказала мне: «Дай мне адрес этого твоего друга, чтобы я могла сказать ему, что то идеалистическое общество, где, как ты думал, одобряется гомосексуализм, — это оно!». Она хотела послать ему газетную вырезку, где был напечатан рассказ о казни гомосексуалистов» (Набави 1999, 124-25).
Позже Нараги сказал, что он был просто поражен невежеством Фуко. Несмотря на свое огромное уважение к Фуко, Нараги удивлялся, как такой чрезвычайно эрудированный человек, друг мусульман н арабов, тем не менее, был настолько невежественным в вопросах однополых отношений в мусульманском мире (личное сообщение Эхсана Нараги, 10 апреля 2001 года).
Что мы знаем о гомосексуализме в мусульманском мире, и насколько Фуко был прав в своих выводах о мужской гомосексуальности в более традиционных мусульманских обществах? Его иранские знакомые, конечно, были правы, предостерегая Фуко от наивности в отношении суровых взглядов Корана на гомосексуализм. Но, возможно, ситуация здесь более сложная, чем они думали, по крайней мере, в отношении скрытого гомосексуализма. Мы вернемся к этим вопросам в последней части этой главы. Сначала нам необходимо рассмотреть труды Фуко о гомосексуализме в греко-римском мире.
Умеренность или мизогиния? Этика любви в древнем средиземноморском мире
Последние два тома «Истории сексуальности» Фуко посвящены греко-римскому миру, начиная с четвертого века до нашей эры и примерно до второго века нашей эры. Здесь Фуко интересовал, главным образом, следующий важный вопрос: «Как, почему, в какой форме сексуальность была установлена как область морали?» (Foucault 1985, 10). (Foucault 1985, 10). Другими словами, в какой момент истории и при каких обстоятельствах секс стал приравниваться к греху и злу? В отличие от некоторых предыдущих работ, «История сексуальности», особенно второй и третий её тома, была посвящена проблеме субъективности и «истории желания человека». Однако внимательное прочтение этих двух последних томов позволяет предположить, что его интересовала почти исключительно точка зрения и история элиты греческой академии и римской аристократии. Голоса маргиналов — женщин, юношей, рабов или неграждан — почти никогда не звучали в повествовании Фуко, даже когда их можно было найти в античной философии, поэзии или комедии. Кроме того, Фуко почти не подвергал сомнению воспроизводимые им классические дискурсы и часто читал нормативные, прескриптивные тексты как описательные.
Эми Ричлин утверждает, что в истории античности Фуко упускает важные моменты значимых дискуссий не только женщин, но и других многочисленных маргинальных групп: «Фуко воспроизвел для своих читателей античность без евреев… без африканцев, египтян, семитов, северных европейцев; без детей, младенцев, бедняков, рабов. Все «греки» — афиняне, а большинство «римлян» — греки» (Richlin 1998, 139; см. также Foxhall 1998).
Выборочное прочтение Фуко классических греко-римских текстов следовало двуединой схеме, схожей с его предыдущими генеалогическими исследованиями. Сначала казалось, что он подчеркивает определенную преемственность в рассуждениях о сексе от древних греков и римлян, средневековых христиан и современного западного общества. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что он снова отдает предпочтение более старым, идеализированным и представляющимся самоочевидным этическим формам в противовес более новым, никогда до сих пор не институционализированным. Признавая множественность дискурсов о любви в классический греческий период, Фуко делает упор на любовных ритуалах, небольшой группы афинских мужчин и выражает сожаление по поводу постепенного упадка этих практик ко времени Римской империи.
Фуко утверждал, что в отношениях между взрослыми мужчинами и мальчиками-подростками соблюдались определенные ритуалы ухаживания и что эти ритуалы представляли собой первую зафиксированную этику любви в западном мире. Эти ритуалы соблюдались потому, что в греческом обществе существовала проблема. Мальчики должны были занять место взрослых граждан государства, и их репутация в подростковом возрасте влияла на их будущий статус. Греческая этика мужской любви вращалась вокруг того, как обращаться с мальчиками как с сексуальными объектами, не низводя их до низкого статуса женщин. Фуко осознавал, что эта этика любви практиковалась в обществе, где женоненавистничество было подавляющим. На протяжении всего текста и в других местах он указывал на подчиненное положение женщин, а также на этику мужской любви, но в конечном итоге не смог увязать эти два вопроса между собой должным образом. Его этика любви явно находилась в диалектическом противоречии со всепроникающим презрением греческих мужчин к женщинам и таксономией, которая низводила женщин, рабов и неграждан на нижние ступени социальной лестницы. Как мы увидим, Фуко признавал тот факт, что греческие концепции, которые он так высоко ценил — модели этичности, умеренности, самообладания и даже заботы о здоровье и диете — все были построены на гендерном подтексте. Тем не менее, он отверг ратификацию этой связи для своей «эстетики существования». Поэтому мы можем с полным правом спросить: является ли новое пространство, которое Фуко создал между старым и новым миром, гостеприимным для феминистских проблем?
Экономика брака
Согласно Фуко, секс в древнем греко-римском мире не считался ни плохим, ни грехом. На самом деле, это была самая естественная деятельность, возвращающая человека к высшему состоянию бытия (Фуко 1985). Греки проводили различие между сексом в соответствии с природой (между мужчиной и женщиной для деторождения) и сексом, который противоречит природе и служит для удовольствия. Но в обществе, которое гордилось своим «триумфом над природой», идти против природы не обязательно приравнивалось к безнравственности. Благопристойность и этика в сексе определялись двумя другими аристотелевскими концепциями: (1) Согласно принципу умеренности, секс был естественным желанием, таким же, как желание еды или питья. Человек принимает его для удовлетворения потребности; более того, это чрезмерно и, следовательно, неподобающе. (2) Согласно принципу позиции, существовало значительное различие между активным взрослым любовником, erast, и пассивным мальчиком-подростком, paidika. Следовательно, «для мужчины чрезмерность и пассивность были двумя формами аморальности в практике афродизии» (Foucault 1985, 47).
Таким образом, в этом обществе erast играли традиционную доминирующую роль, а paidika — традиционно подчиненную. В обществах со сложной социально-классовой иерархией доминирующие группы имеют доступ к культуре общества и общему мировоззрению в литературе, философии и законодательстве. Они обычно узаконивают неравные отношения и включают их в руководящие принципы общества. Доминирующие группы определяют подчиненных, назначая им одну или несколько приемлемых ролей. Они могут считать, что подчиненные имеют какие-то врожденные умственные или моральные недостатки. Доминирующие группы также поощряют подчиненных развивать психологические черты, которые им приятны. Когда подчиненные вырываются из этих предписанных ролей и проявляют серьезность и инициативу, доминирующая группа считает их ненормальными. В конечном итоге, доминирующие стороны воспринимают существующий порядок вещей как «правильный» и «хороший» как для себя, так и для подчиненных и не видят причин для изменений (Miller 2001).
Все эти закономерности проявились в отношениях между erast и paidika, поскольку взрослые любовники пытались приучить пайдика к пассивной позиции в сексуальных отношениях. Они предполагали, что пайдика физически не способен испытывать какие-либо ощущения (удовольствие или травму) во время секса. От мальчиков-подростков не ожидали, что они будут инициировать сексуальные отношения или просить денежную компенсацию. Тех, кто это делал, клеймили как проституток. В академии erast узаконили эти неравные отношения как одни из руководящих принципов общества и разработали ряд практик ухаживания. Они также сделали такие ухаживания необходимым компонентом достижения философской истины. Erast, похоже, убедили себя в том, что эти отношения имели большую ценность для paidika, которых обучали искусству мужественности и помогали развивать ценные социальные связи. Как вышло, что Фуко никогда не критиковал и не ставил под сомнение разницу во власти в этих отношениях и вместо этого прославлял точку зрения erast?
Как мы видели, греки были озабочены двумя модальностями, позицией и умеренностью, которые мы обсудим ниже. Презрение греческого мужчины к пассивности было связано с презрением к женственности: «В глазах греков мужчина, нарушивший ‘’правила” законного эроса, отделял себя от ранга мужчины-гражданина и причислял себя к женщинам и иностранцам” (Dover 1989, 103). Танцуя вокруг фактического определения «пассивности» в греческом гомосексуализме на протяжении всего текста, Фуко преуменьшает лицемерие культуры, в которой однополые отношения были распространены, но мальчики, которые подчинялись физическому проникновению (силой или по согласию), подвергались пожизненному осуждению.
В «Заботе о себе», третьем томе «Истории сексуальности», Фуко признал, что статус женщины в браке улучшился в эллинистическую и римскую эпохи по сравнению с ее статусом в классическом афинском обществе. Однако язык, который он выбрал для обсуждения этих изменений, выдает его чувства. Мы знаем, что брак становился все более и более добровольным соглашением между партнерами. Отец имел меньше полномочий в принятии решения о браке дочери. Жена получила определенные экономические и юридические права. Женщины иногда получали наследство, владели собственностью и могли распоряжаться своими опекунами. Сексуальные обязанности женщин остались прежними, а права мужчин стали более ограниченными. Женщины могли указать в брачном договоре, что не должно быть регулярно содержащихся наложниц в отдельном доме и признанных внебрачных детей (Bridenthal, Koonz, and Stuard 1987). Но Фуко писал, что римское общество «отбросило экономические и социальные цели, которые придавали [браку] ценность. Он стал накладывать все больше и больше ограничений для супругов и, следовательно, более эффективным для изоляции пары в среде других социальных отношений» (1986, 77).
Фуко явно не одобрял эти изменения. Очевидно, что чем больше прав получали женщины в браке, тем менее ценным становился институт в целом. Брак, согласился Фуко, «изолирует» пару от других социальных отношений. На самом деле, однако, социальные отношения женщин вне дома значительно расширились в эллинистическую и римскую эпохи.
«В «Заботе о себе» Фуко не ответил на острые наблюдения Плутарха или Квинтилиана о том, что в большинстве отношений между мужчиной и мальчиком отсутствует согласие. Вместо этого он сетовал на то, что по мере того, как супружеская любовь и лучшее общение между мужем и женой становятся заветными целями, «человек начинает подвергать все большему сомнению привилегии, которые раньше давались любви мальчиков» (Foucault 1986, 185). Чуть дальше Фуко пишет: «Все то, на что эротика мальчиков могла претендовать как на должное, принадлежащее этой форме любви (в противоположность ложной любви к женщинам), будет вновь использовано здесь, не только в отношении любви к женщинам, но и в отношении самих супружеских отношений».
… …
Ориенталистские впечатления Фуко от мусульманского мира, его избирательное прочтение н представление греко-римских текстов, его враждебность к современности и ее технологиям тела привели к тому, что он предпочел более традиционную исламскую/средиземноморскую культуру современной культуре Запада. Возможно, он надеялся, что возрождение традиционной культуры в Иране при исламистском правительстве может привести к менее ограничительному контрдискурсу о теле и сексуальности. Возможно, это произошло, по крайней мере в некоторой степени, с традиционными, скрытыми однополыми отношениями. Как мы видели, есть признаки того, что к 1984 году Фуко начал пересматривать некоторые из своих ранних нападок на проект Просвещения; однако в последних двух томах «Истории сексуальности» сохранился дуализм его ранних работ, который отдавал предпочтение древним и досовременным культурам перед современными. Это позволяет предположить, что теоретическое направление Фуко сохраняло существенную преемственность вплоть до его смерти в 1984 году.